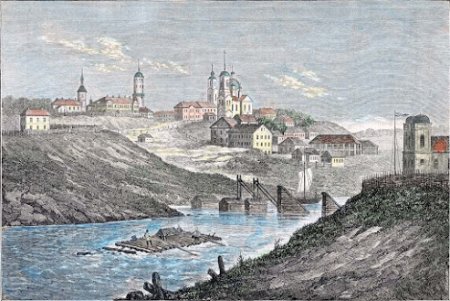
В XVI — XVIII вв. семейная жизнь могилевчан не всегда складывалась гладко. Разногласия между членами семьи приводили к распрям и непониманию.
В XVI — XVIII вв. муж и жена не всегда находили общий язык, что приводило к постоянным ссорам, мешавшим «почтивому мешканню» супружеской пары. Так, могилевский мещанин Богдан Левонович и его жена 8 июля 1578 г. заключили соглашение о том, что не будут больше ссориться [1, с. 11]. Однако, вскоре возникла новая конфликтная ситуация, заставившая Богдана Левоновича вновь обратиться в суд (14 января 1579 г.): «Поставшисе очевисто перед урядом <…> Богъданъ Левоновичъ, мещанинъ Могилевски с одное стороны, а жона его з другое стороны, застановенъе межи собою такое учинили, иж не отступуючи першого постановенья своего, которы се перед урядомъ сталъсе, ижбы не въ згоде в стане малженъскомъ и в ростирку мешкат мели, иж вжо от сего ч(а)су и дня в малженъстве потьтивомъ мешъкат мают, а гдебы се с которого што показало стороны мужа або жоны, виненъ будеть и повиненъ заплатит на уряду водлуг постановеня першого вину, а которые речи жона повыносила з дому и иншые позаставляла, мает то одыскать и до дому прынести…» [1, с. 167]. В данном случае нарастание конфликтной ситуации было вызвано тем, что жена «повыносила з дому речи, а другие позаставляла», которые являлись совместным имуществом супружеской пары, о чем свидетельствует решение суда, согласно которому жена обязана была вернуть все, что было утрачено в результате ее действий. Второй договор, заключенный между Богданом и его женой, урегулировал не только межличностные отношения поссорившихся супругов, но и уточнил вопросы, связанные с имуществом, которое являлось их совместной собственностью.
В 1637 г. Васко Оникшинич, обвиненный в краже, заявил, что к совершению преступления его подтолкнула жена, более того, по словам Васко, женщина являлась его соучастницей, и только позже сознался, что оговорил свою супругу: «Ларко Оникшиничъ, мещанинъ могилевскш, припозвавши з везенья местьскаго, презъ слугъ местскихъ, брата своего Васка Оникшинича, домовялъсе, абы о собе справу далъ, якимъ способомъ въ дому его, на день на радуницы, речи побралъ; а тотъ Васко поведилъ тыми словами ижъ приехавши передъ святомъ Великоденнымъ, ажъ до самое радуницы, былъ въ клети, которая въ дому его, Ларка, отцовскомъ стоитъ, не выходечи зъ тое клети, бо не мелъ доломана; кгды день радуницы пришолъ, малжонка моя, Вода, дала ведомость же Ларка и зъ жоною своею зъ дому одышли по обеде, и мовила ми оная тыми словы, ижъ теперь часъ естъ, пойди, железо у окна коморочного отломи; а за тымъ я, зъ тое клети вышедши, у окна коморочного делезо отломиломъ, а она, влезши до коморки, скринку и футра нунковые взявши, мне презъ окно подала, которые я, отъ нее взявши, положиломъ въ огороде, нимъ ночъ наступить, а самъ знову до клети отышолъ <…> А на дню Пятковскомъ, мца Юля третего дня, обвиненный Васко Оникшиничъ, будучи сполъне зъ жоною припроважоный и съ товаришомъ Павломъ Епрповичомъ <…> добровольне созналъ, ижъ малъжонку свою, што на нее первей помовилъ, поволываючы ее помочъницею въ крадежу быти, тогды то учинилъ зъ гневу, же мене отступити въ такомъ же разе хотела, а теперъ ее вызволяю, бо я самъ тотъ крадежъ чинилъ…» [4, с. 302-308]. Приведенный пример, к сожалению, не дает нам возможности установить, что явилось причиной разногласий между супругами. Здесь мы сталкиваемся исключительно с последствиями конфликта — оговором супруги, обвинением женщины в пособничестве в краже. В то же время, в данном случае можно говорить о существовании конфликта не только между супругами, но и между родными братьями. Во втором случае причиной разногласий между Васко и Ларко Оникшиничами послужили имущественные претензии первого в отношении раздела наследственной массы. Это толкнула Васко на противоправные действия в отношении своего родного брата.
Источники свидетельствуют о практике вмешательства родственников в семейную жизнь супружеской пары. 31 июля 1578 г.: «Гришко Семенович чинил жалобу на учтивого Бориса Игнатовича, ц(ес)тя своего, иж дей есъми жону свою и дочку его за выступокъ ее скараломъ былъ. Он то услышавши от иных людей, не маючи до мене жадное потребы, наполнившися воли свое, взявши з уряду слугу местьского, мене до везенья войтовского дал осадить и на томъ мало маючи права пошотши до дома моего, и жону мою а дочку свою взявши, до везенья такъже осадить ее далъ и держалъ мене у везенью через целы день…» [1, с. 16]. Как видим, здесь отец жены вмешался в семейную жизнь своей дочери. Можно предположить, что Гришко Семенович и его жена не только не однократно ссорились, но и Гришко «воспитывал» жену, прибегая к рукоприкладству, причем размолвки были столь частыми, что Борис Игнатович не только вмешался в семейную жизнь супругов, но и посадил своего зятя на целый день в тюрьму, дабы остудить его пыл.
Сложные взаимоотношения сложились в семье мещанина Яцко Конашевича. В 1598 г. он вернулся домой и не застал своей жены, Марии, дома. А когда попытался выяснить через суд, почему его тесть Симон Гридкович, забрал свою дочь к себе домой, то узнал, что за время его отсутствия в Могилеве был разведен с ней. Причем, инициатором развода выступил отец Яцко, который не только не посчитал нужным уведомить сына о предстоящем разводе, но и стал одним из непосредственных инициаторов расторжение брачного союза [3, с. 256]. О нарастании конфликтной ситуации в семье свидетельствует не только то обстоятельство, что брак был расторгнут в тайне от Яцка, но и категорическое нежелание Марии возвращаться к своему мужу. Женщина предпочла удалиться в монастырь, чем остаться женой Яцка [3, с. 256]. Подобная реакция со стороны женщины могла быть вызвана либо сложными взаимоотношениями, сложившимися между супругами, либо конфликтной ситуацией, которая возникла между ней и ее свекром, либо же результатом сочетания обоих вышеуказанных причин. К сожалению, данное дело не позволяет нам с точностью установить, какие именно взаимоотношения привели к разрастанию конфликта.
Здесь, как и в предыдущем случае, мы сталкиваемся с вмешательством в семейную жизнь родителей одного из супругов — отца Яцка. Сложно сказать, чем руководствовался в своем поступке Конаш Пашкович. Скорее всего, свекор был настолько негативно настроен против своей невестки, что предпочел, чтобы его сын остался вовсе без жены (духовный суд, разведя пару, запретил Яцку вступать в повторный брак [3, с. 256]).
В феврале 1580 г. разгорелся скандал в семье Ивана Бутака, участником которого стал его брат Игнат и сестра его супруги, Федя Аксютина. Масюта, жена Ивана, сбежала из дома, пока мужа не было в городе [1, с. 513]. Частые измены Масюты не были секретом и для брата Ивана, Игната Бутаковича. Заподозрив неладное, он вынужден был посадить Масюту на «ланцуг»: «Тимошко Бутак жаловалъ и оповедал о том, иж <…> кгды приехали были в домъ мой жолнере, вжо улягаломъ, то пакъ не ведат для чого невестка моя Масюта Иванова хотела з дому моего утечы, которой я не веречы, осадил есми былъ на лонцух, нижли потомъ сама почела просит, жебы по сестру ее Федю Аксютину послалъ, по которую послано; и кгдыж она пришотшы почела просить, жебы е(е) на рукоемство дано до приеханя мужа ее Ивана Бутака, на которое рукоемъство оное Оксютиной я дал был свою невестку, которая будучы за ее рукоемъством, не мало речей мужа своего з дому <…> забравшы, (з) жолнерами преч утекла…» [1, с. 513]. Важным моментом, вызвавшим обращение в суд, была не только измена жены[ В рассматриваемое время, побег рассматривался как измена, и влек за собой такие же последствия, как сам факт измены [7, s. 155-156].], но и воровство ею имущества мужа.
Приведенные выше примеры позволяют утверждать, что в XVI-XVIII вв. супружеская пара хотя и жила раздельно, но постоянно находилась под пристальным вниманием со стороны своих ближайших родственников, прежде всего представителей сильного пола, которые зачастую вмешивались их взаимотношения.
Причиной разногласий между супругами могло стать злоупотребление горячительными напитками и рукоприкладством: «Поставшисе очевисто
Агапея Тимошковна Онисковая, будучи на теле а уме здорова <…> по своей доброй воли <…> тые слова сознала, иж она мужу своему Ониску 1гнатовичу, хотечи быти во всем послушною, обецуетъ с яз ним употливе жити, не пити, з дому ничого не выносити, а руки от чужого добра гомовати, також и муж ее помененый <…> моее бити не обецуется» [5, л. 78 обр.]. К сожалению, данные имеющиеся в деле не позволяют нам с уверенностью говорить, чем была обусловлена конфликтная ситуация в семье. Было ли это связано с тем, что жена злоупотребляла спиртными напитками и в связи с этим растрачивала семейное имущество, и как последствие рукоприкладство мужа, как наказание за подобное деяние, либо же поведение мужчины привело к тому, что его супруга стала выпивать.
В семьях могилевчан в XVI — XVIII вв. ссоры возникали не только между супругами, но между родителями и детьми. 9 апреля 1578 г. Алисей Семенович выгнал из дома своего сына и его жену: «…Хветко Петрович, мещанин Могилевский, жаловал на учтивого Алисе Семеновича <…> свата своего, о томъ, иж далъ дочь свою за сына его Гаврила в стан малженски, якож по дочце даючъи, далемъ до рук его самого две копе грши двадцат и корову, нижли он у дому своем сына своего и з дочкою моею ховати не хотечи, проч от себе выгнал, а оных дву копъ и грши двадцат и коровы моей отдати не хочет. А учтивы Алисей, чинечи отпоръ <…> поведил, иж яко сына своего, так и дочки его а невестки своей з дому не выгонялъ, одно сами от мене по доброй воли отошли <…> а грши тых <…> отдалъ сыну своему Гаврылу, а корову сын у Боровичах менил на иншую и двадцат грши принял, которые он на свою потребу обернул. Але сын его <…> поведил, же тых грши от него не бралъ и коровы не заменивал…» [1, с. 223-224]. В данном случае в конфликт оказались втянуты несколько категорий родственников. Во-первых, данный конфликт был связан с разногласиями, которые возникли в большой семье[ В данном случае речь идет именно о большой семье, т.к. семья включала в себя несколько поколений. Сын не был отделен, после того как женился, а проживал совместно со своим отцом.]. К сожалению, сложно сказать, кто был виновником ссоры (отец, сын или же невестка). Однако с уверенность можно утверждать, что, прежде всего, в данной семье мы сталкиваемся с проблемой «отцов и детей». Во-вторых, в данный конфликт была вовлечена и семья невестки, а точнее сказать ее отец, как глава семейства, защищавший интересы своей дочери, в том числе и имущественные. И здесь уже речь идет о нарастании напряженности между сватами: Хветко Петровичем и Алисеем Семеновичем. Суд урегулировал разногласия между второй категорией родственников, постановив, чтобы Алисей Семенович вернул имущество, принадлежащее невестке. Конфликт же между отцом и сыном урегулирован не был, т.е. решений, касающихся вселения сына обратно в дом отца, принято не было. Скорее всего, это было связано с тем, что сын являлся уже взрослым, полноправным членом общества, имеющим свою семью, а потому отец не обязан был его содержать, т.е. Гаврило достиг того возраста, когда мог быть «отделен» от отца, а поскольку выделению сына предшествовал конфликт, то Алисей Семенович, согласно общегосударственному праву имел право лишить непослушного сына наследства [6, с. 59], а значит и претендовать на отчий дом Гаврило не мог.
В 1579 г. Прокоп Мишкович подал в суд на свою мать, которая выгнала его из дому: «Прокопъ Мишковичь жаловал на учтивую Устиню, матку свою, о томъ, ижъ она невинне его з дому властного отцовского его выбила и в нимъ допустить мешканья не хочеть. А учстивая Устинья матка его, поведила через опекуна з уряду приданого <…> ижь его з дому не выбияла и овшем яко властному дитяти и дедичови оного дому мешканья у дому не бронит… » [1, с. 312]. Как видим, мать отрицает все обвинения, выдвинутые против нее сыном, однако в этот же день Устинья идет на заключение «зоставы» с сыном о, мирном сосуществовании в одном доме: «Прокопъ Мишьковичъ з одное стороны, а учстивая Устиня Мишковая, матка его, з другое стороны, чынили сознане зобу сторон о томъ, ижъ што се позвали были до права о не згоде мешканье у дому, тогды яко о мешканье и о вси зайстья, што межы собою мели, о то погодили и такъ межы собою зоставили, ижь оному Прокопу весполок з маткою волное мешканье маеть быти у дому отцовском, яко властному дедичу оного дому, так ижь вжо от дня сегоднешнего матка его з дому выгонят не маеть и в милости згодной мешкати мают…» [1, с. 312]. Такое поведение матери было обусловлено тем, что своими действиями: «изгнанием сына из дома», — она нарушала его наследственные права, что подтверждается решением суда: «Прокопу весполок з маткою волное мешканье маеть быти у дому отцовском, яко властному дедичу оного дому» [1, с. 312]. В данном документе мы сталкиваемся с разногласиями между матерью и сыном, обусловленным совместным проживанием, зачастую приводившими к «посваркам» и взаимным оскорблениям «посварку жодныхъ и словы не вчстивыми один на другого торгатсе не мають, а где бы сын матку свою якими словы невчстивыми соромотил, або матка сына з дому оного выгоняла и где бы се трафило у день, тогды двема Светками того довел, а есми у ночы трафитсе, тогды одным ч(е)л(о)в(е)комъ добрымъ, и за такимъ преводомъ тот маеть заплатити на ратушь местаМогилевског гривну гршей, а вину заплатившы…» [1, с. 312].
Встречаются случаи, когда причиной конфликта между родителями и членами семьи, как и между супругами, являлось злоупотребление алкогольными напитками. 1 сентября 1578 г. могилевский мещанин Косца подал жалобу в суд на своего пасынка Гришку: «жаловал и оповелад учтивы Косца на Гришка Черковича, пасынка своего, а на Хому, сестренца того пасинка его, о томъ, иж дей нет ведома для которой причины збили и змордовали, будучи у дому сполномъ ншомъ. А Гришко с Хомою <…> поведили, ижесми его не били, ани о томъ бои ведаемъ, односли з нег зняти сермягу матки своей для того, штоб не пропил, бо итак речей много матки н(а)шой позапиял. А уряд выслухавши жалоб и отпору сторонъ, обачаючи то, иж тот пасынок и сестренец в молодых летех, а мешкаючи в одномъ дому и в одномъ хлебе, шарпали господара своего, яко отца, с тых причин уряд за вину дал их посажать до меского везенъя» [1, с. 52-53]. Как видим, в данном случае сын и племянник, защищая имущественные интересы своей матери и тети, прибегли к насилию над отчимом, который из-за своей пагубной привычки, неоднократно продавал вещи своей супруги, а вырученные деньги пропивал. Однако, он являлся не только главой семьи, но и кормильцем несовершеннолетних пасынков, поэтому суд встал на защиту его прав. В рассматриваемое время, оскорбление родителей, а уж тем более нанесение им каких-либо телесных повреждений, считалось одним из тягчайших преступлений и подлежало непременному наказанию [2, с. 89].
Таким образом, в XVI-XVIII в. назревали межличностные конфликты и между другими категориями родственников: братьями и сестрами, сватами, свекрами и невестками, зятьями и невестками, обусловленные как неприязненными отношениями, так и имущественными разногласиями.
Литература:
1.Акты издаваемые Виленскою комиссию для разбора древних актов: в 39 т.
-Вильна: Типограф. Губ. правл., 1865 — 1915. — Т. 39: Акты Могилевского магистрата XVI в. (1578 — 1580). — 1915. — 664 с.
2.Древние русские княжеские уставы XI — XV вв. / сост. Я.Н. Щапов — М.: Наука, 1979. — 239 с.
3.ИЮМ: в 32 т. /под ред. Созонова [и др.]. — Витебскъ: Тип. Губ. правл., 1871 — 1906. — Вып. 8: Приходо-расходные книги г. Могилева на 1691 г. Акты, извлеч. из книг Могилев. магистрата за 1591 — 1634 гг. / под ред. Созонова — 1877. — 530 с.
4.ИЮМ: в 32 т./под ред. Созонова [и др.]. — Витебскъ, тип. Губ. правл., 1871
-1906. — Вып. 9: Приходо-расходная книга г. Могилева за 1692 г. Акты, извлеч. из книг Могилев. магистрата за 1635 — 1646 гг./под ред. Созонова. — 1878. — 546 с.
5.НИАБ — Фодн 1817. — Оп. 1. — Д. 10: Актовая книга могилевского магистрата: 1 января 1628 г. — 30 декабря 1628 г. — 1104 л.
6.Статут Великого княжества Литовского 1529 г./ под ред. К.И. Яблонкиса- Минск: Академия наук БССР, 1960. — 253 с.
7.Baranowski, B. Zycie codzienne malogo miasteczka w XVII i XVIII wieku/ B. Baranowski. — Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1975. — 287 s.
Н.Н.Алексейчикова, г. Могилёв, МГУ им. А.А. Кулешова, Беларусь.